Учение о факторах среды, находящихся в минимуме
Около 1840 г. один из основателей агрохимии Юстус Либих сформулировал «закон минимума». По этому закону рост растения определяется тем фактором, который представлен в наименьшем количестве. В 1926 г. эколог А. Тинеман сформулировал его в отношении гидробиологии. Он писал, что тот из необходимых факторов окружающей среды определяет густоту населения данного вида живых существ, который действует в количестве или интенсивности, наиболее далеких от оптимума. Нужно лишь уточнить, что необходимый фактор среды надо понимать как фактор, влияющий положительно, а не отрицательно.
С тех пор «правило минимума» нашло широкое применение у экологов и биоценологов.
Однако задолго до этого чисто экологическую формулировку «правила минимума» Либиха дал знаменитый русский ученый академик А. Ф. Миддендорф. Его определение исключает прямой перенос идей Либиха в экологию животных, хотя с работами последнего он был бесспорно знаком, а может быть и сам знал его по Эрлангенскому университету, который посещал, будучи за границей. Миддендорф в 1867 г. писал, что нередко животное, по природе своей вовсе не страшится сурового климата, а между тем, все-таки отправляется дальше, потому что одна какая-нибудь из его жизненных потребностей косвенным образом зависит от более теплого времени года.
Эта закономерность в экологии охотничьих животных и лесных животных вообще нашла множество подтверждений и, возможно, здесь гораздо более приложима, чем в агрохимии.
Обратимся к экологии питания лося, поскольку в ней учение о факторе, находящемся в минимуме, нашло широкое практическое применение. Питание и его экология во многих случаях имеет решающее значение в жизни вида. В течение периода вегетации лесной растительности лось располагает ею в обилии (листья, зеленые побеги древесных и кустарниковых растений, многие травянистые растения). Взрослый лось в этот период поедает до 30 кг высоко-питательной растительной пищи. Благодаря питанию происходит рост и развитие молодых животных, восстановление потери веса в зимнем периоде, во время беременности и лактации самок, а также жиронакопление перед новой зимой.
В осенне-зимний период и ранней весной лось питается почти исключительно веточными кормами и отчасти корой древесных растений, поедая до 12-14 кг за сутки. Как показали исследования (Кнорре, 1959), эти корма лишь поддерживают животного, и лось не в состоянии увеличить свой живой вес и упитанность. Он может лишь восстановить временные потери, вызванные особым напряжением организма (например, у упряжных ручных лосей).
Целый ряд исследований по питанию и пищевым ресурсам не только лося, но и других копытных зверей (европейский олень, косуля) показал, что в лесах запаса кормов вегетационного периода обычно в десятки раз больше, чем зимних (пример у Моттля, Мелихара и др.). Отсюда вполне понятно, что в лесных угодьях дефицита кормов вегетационного периода не бывает, зато в отношении зимних, веточных кормов при высокой плотности населения это повсеместное и постоянное явление. Падежи виргинского оленя и оленя-вапити в Северной Америке, лося, оленей, косули в Европе, исключая эпизоотический фактор, если не всегда, то достаточно часто имели место за счет дефицита корма (Падайга, 1970; Юргенсон, 1970), который часто усугублялся распределением и высотой снежного покрова, делавшего часть зимних кормов фактически недоступной для животных. Отсюда практический и хозяйственный вывод: расчеты допустимой плотности для лося и других копытных зверей надо делать на основе кормовой емкости лесных угодий в зимнее время с учетом концентрированного и дисперсного их распределения в пространстве.
Дефицит зимних кормов по сравнению с дефицитом летних преобладает в экологии животных и определяется меньшей их питательностью (калорийностью) во многих случаях (но не всегда), меньшим обилием и затрудненной доступностью при большей потере организмом животного тепла, а следовательно, и большей потребности в его восстановлении.
Охотовед должен остерегаться составлять поверхностное представление по впечатлениям, не основанным на глубоком изучении. Всем известно, что зимой глухарь питается только сосновой хвоей, а тетерев почти исключительно мужскими сережками и почками берез и некоторых других, значительно менее обильных кормов местного значения (можжевельник и т. п.). Какой же может быть их дефицит?! Они так широко и обильно всюду представлены! А дефицит здесь более возможен, чем по кормам вегетационного периода. Более внимательное изучение показывает, что глухарь кормится далеко не на каждой сосне как в силу ее кормовых качеств, так и условий безопасности во время кормежки. Каков процент кормовых сосен в тех или иных сосняках и при каких условиях, мы пока знаем очень мало. Также и кормовых берез далеко не много, отсюда и большая подвижность тетеревиных стай. Иногда бывает и неурожай березовой сережки на больших пространствах, вызванный вредителями и болезнями. Такие случаи отмечены для Западной Сибири (Формозов, 1935) и Кольского полуострова (Семенов-Тян-Шанский, 1959). Кроме того, хорошо плодоносит береза лишь начиная с V класса возраста, и далеко не каждая береза по целому ряду причин пригодна для жировок тетеревов (нет хорошего обзора, ветви не выдерживают тяжести тетерева и т. д.).
Но у того же тетерева в минимуме могут быть корма и других сезонов, например во время выводкового периода. Обычно это возникает в результате возрастных изменений насаждений и деятельности человека, сокращающего площади естественного суходольного лесного и лугового разнотравья. В ГДР, ФРГ и Голландии это препятствует работам по восстановлению этого вида в тех местах, где он уже исчез.
В минимуме могут быть не только корма отдельных сезонов, а, например, условия для норения. В болотных равнинах с высоким уровнем грунтовых вод если и не исключена возможность обитания барсука и лисицы, то сильно ограничена их плотность и условия воспроизводства численности.
Для речной выдры и норки в областях с наличием вечной мерзлоты, вызывающей образование наледей и промерзания водоемов до дна, возможность обитания этих видов вовсе исключена. Напротив, незамерзание зимой водоемов в условиях мягкой зимы Западной Европы способствует тому, что этого зверя там больше, чем в СССР, несмотря на высокую плотность населения.
Дефицит зимних кормов, видимо, испытывает и белая куропатка в средней полосе, на что указывал А. В. Михеев (1948) на примере Калининской области. Иногда ограничивают расселение, а следовательно, обилие особей вида и другие моменты: например, для тетеревиных птиц - недостаток гравия, или мелких камешков для растирания грубой пищи в их мускульном желудке. Однако этот фактор не столь жесткий, так как при дефиците этого материала он может быть заменен твердыми костянками, кусочками твердой древесины и т. д. Бывает это там, где почва и обнажения коренных пород не содержат твердых частиц. В подобном случае искусственное создание нужных условий (но лишь умелое) может выправить дефицит в природе. Не следует только думать, что искусственные галечники всегда способствуют улучшению условий обитания вида и тем более росту его плотности. Дефицит гальки лишь вызывает местные перелеты на гальку, которые иногда опасны для птиц, как всякая повышенная активность и концентрация, но не более.
Вообще же правило минимума дает возможность при глубоком анализе состояния лесных угодий правильно направить основные усилия на повышение их продуктивности.
К сожалению, часто отсутствие или недостаточная глубина познания экологии вида препятствует выявлению факторов, находящихся в минимуме. Тогда приходится говорить о дефицитном местообитании, или охотничьем угодье, а то и о комплексе их, например о летних угодьях лосей в противоположность зимним. Причина простая; какой именно фактор является определяющим, мы пока с уверенностью сказать не можем. В природе же действительно не так уж редко бывает, что леса одного лесничества или лесхоза не могут обеспечить лосиную популяцию круглый год, и лоси переходят в соседний лесхоз. Так, по данным исследований (Юргенсон, 1935), в областях средней полосы было известно не менее восьми лесничеств (по делению 1927 г.), куда лоси приходили с осени, иногда по первым порошам, а то и с декабря-января и держались там до весны. Например, в Спас-Красногорское лесничество Ивановской области лоси заходили осенью с молодыми из смежных лесничеств - Немдинского и Калыйского. В Рябиковское лесничество той же области - из Судиславского (бывш. Кинешемского уезда), в Климовское лесничество Калужской области лоси заходили из Петрищенского (Татьянинского) и т. д.
В свою очередь, в 13 различных лесничеств лоси приходили весной, начиная с марта, или на отел, и держались до осени или до зимы.
Подобные сезонные перемещения на ограниченной территории составляют довольно обычное явление для тетерева и глухаря. Летом глухари могут гнездиться в смешанном еловом старолесье. Если же в его пределах нет выделов (хотя бы 10-15%) сосняков, или лесных сосновых болот (омшар), то на зиму глухари из такого массива могут переселиться Возникает вопрос, как же они в такой массив попали? Токовать глухари могут даже в крупном осиннике с примесью ели. Один из ответов может быть таковым: в составе массива были сосново-еловые насаждения, из которых сосна с течением времени была вытеснена елью, засевшей под ее пологом. Как известно, такие смешанные насаждения, к сожалению, недолговечны.
Тетерева обычно покидают к зиме район токовищ с выводковыми угодьями вокруг них в поисках угодий с обилием кормовых берез по опушкам и в кулисах, иногда осваивая значительный по площади участок.
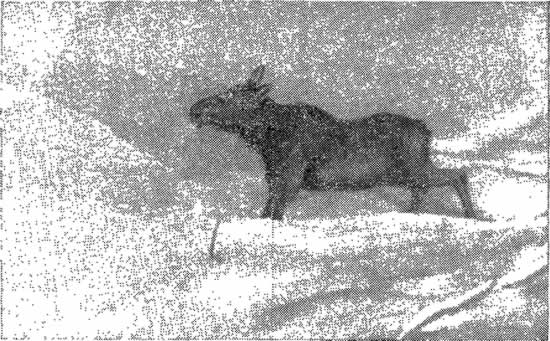 |
| Рис. 5. Глубокие снега вынуждают лосей мигрировать Фото. С. Васильева |
Экологическим фактором, находящимся в минимуме, всегда определяются и крупные, более отдаленные (на десятки и сотни километров) сезонные, регулярные миграции, особенно характерные для копытных зверей. Основная причина - высокий снеговой покров, из-за которого поиски зимнего корма и передвижения, связанные с ними, затруднены. Классические примеры миграции косуль можно наблюдать на Дальнем Востоке, переходы лосей через хребет с западного многоснежного склона на восточный - на Урале. Менее известны миграции лосей в западносибирской тайге в направлении с севера на юг. Такие сезонные миграции - не стабильное по своей природе явление, которое на примере лосей Верхней Печоры хорошо показал Ю. П. Язан (1961). За три десятилетия они там прошли три существенно разные фазы. Классических миграций на 200-300 км уже не существует из-за истощения кормовых ресурсов зимних стойбищ.
Очень обычны сезонные вертикальные, иногда повторные миграции многих охотничьих зверей и птиц в горах на юге Сибири (бурый медведь, марал, белая куропатка и др.).
