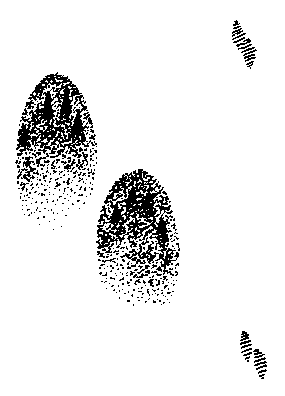Во времена звероловства
Мы жили с ним в лесу, да в чистом
поле,
Травя волков, стреляя глухарей.
В пятнадцать лет я был вполне воспитан,
Как требовал отцовский идеал:
Рука тверда, глаз верен, дух испытан,
Но грамоту весьма нетвердо знал.
И я таким остался до седин
(Мне грамота потом далась, однако),
Мой лучший друг — легавая собака,
Да острый нож, да меткий карабин.
(Н. А. Некрасов)
"Давай лыжи", — рявкнул надо мной незнакомый голос, и в то же
мгновение я ощутил увесистую зуботычину. Я съежился от смешанного
чувства отчаяния, злости и решимости постоять за себя. "Проворонил,
— мелькало в голове. — Переходил площадь, не осмотревшись, вот
и попал..."
"Давай лыжи, тебе говорят". — И здоровенный рябой детина, головы
на две выше меня — третьеклассника, дернул изо всей силы за веревку
от лыж, которую я накрепко зажал в руках. На этот раз требование
сопровождалось пинком ноги, обутой в большой, подшитый валенок.
С трудом я устоял на скользком снегу, цепляясь за лыжную веревку.
В ту же минуту над нами ударил большой колокол — в морозном воздухе
поплыл низкий басовитый гул. Из церкви, близ которой происходила
стычка, густо повалил народ. Я оглянулся вокруг, ища помощи. Через
площадь спешили к дому, к воскресным пирогам, несколько старух,
три щуплых барышни, румяный лавочник Ушаков, торговавший на соседнем
углу, чиновник казенной палаты с длинной болезненной супругой
и подрядчик Лапшин с кучей чад и домочадцев. Все смотрят на нас
с любопытством, но нет никому дела до того, что у паперти избивают
какого-то парнишку. Тем временем к рябому подбежали еще двое.
Один вынул ножик — отрезать у лыж веревку; другой тянул их за
ремни. Что оставалось делать? Я сунул руку в валенок, где всегда
был наготове большой складной нож. Прихвастывая, я любил потом
говорить, что "дал рябому в бок и пощупал у него ребра". На самом
деле все обошлось неожиданно просто. Стоило замахнуться, как трое
нападавших опрометью бросились бежать, криками вызывая подкрепление.
Правда, вид у меня был свирепый, а восьмикопеечный нож, из тех,
что ворсменские кустари делали для деревенских пастухов, видимо,
выглядел достаточно страшно. Недаром на его широком лезвии латинскими
буквами с небольшой примесью русских была начертана "заграничная
марка":
Britva реrvый sort
Korolev v Vorsmь
"Держи, держи его..." — слышались крики погони сзади и по сторонам,
в переулках. Я мчался серединой дороги. Лыжи гремели и, догоняя,
били меня по ногам. Впереди улицы Новой Стройки были тихи, пусты,
одеты пышными белыми сугробами. Дымки рядами тянулись из труб
двухэтажных деревянных домов, разнося запах поджаренного лука
и другой стряпни. Вороны, нахохлившись, сидели на покосившихся
заборах, ожидая очередной порции помоев (хозяйки освобождали свои
ведра прямо перед крыльцом). Окраина города еще дремала в это
воскресное утро, а я бежал по сонным ее улицам, вспотев, тревожно
озираясь, с бьющимся сердцем, как заяц, по следу которого пущены
гончие.
Пробраться в поле без стычки с вражескими заставами было делом
очень хитрым. От моей улицы, протянувшейся по оврагу, за город
— к полю и лесу, вели три пути. И, как в старых былинах, на любом
из них ожидали одни неприятности.
Налево повернешь — попадешь в татарскую слободку. Там татарские
ребята угостят камнями или досыта намнут бока. (В городе кому-то
было выгодно сеять национальную рознь, стравливая русских и татар.)
Прямо пойдешь — через овраги налазишься, попадешь на свалку мусора,
а потом к городским бойням. Близ боен много воронов, сорок, летом
бывают коршуны, на которых интересно иногда посмотреть. Но десятки
бродячих, собак, живущих около отбросов, окружат злобной, лающей
стаей, будут провожать полкилометра, наскакивая сзади и с боков.
Направо повернешь — придется пробираться через Новую Стройку
— из-за каждого угла жди нападения. Здесь что ни двор, то шайка
головорезов. А потом упрешься в огороды, дальше выйдешь к полям
орошения, залитым нечистотами, которые свозят сюда со всей верхней
части города.
В зимнее время я предпочитал этот путь. Городом идти недалеко;
быстро добежишь до околицы, а там, как станешь на лыжи, только
тебя и видели. Тропинки на огородах, развалины кирпичных сараев,
канавы, заросли бурьянов были знакомы мне лучше, чем узенький
школьный двор. Правда, с полей орошения доносились удушливые запахи,
но эта последняя преграда, завеса зловонных испарений, мало меня
тревожила. За ближним оврагом открывалась белоснежная равнина
полей, как широкие ворота, радушно распахнутые в чудесный мир
мягких сугробов, звериных следов, пушистых птиц и запорошенных
кустарников.
Ходил я всегда напрямик, без дорог, стремясь не встречаться
с людьми. В те годы не было и помину о кружках юных натуралистов.
Я долго рос отщепенцем, без товарищей и тянулся в поле, как упрямый
побег через изгородь запущенного сада. За время одиночных походов
опыт научил сторониться незнакомых людей. Однажды встречный возчик,
проезжая мимо, огрел кнутом по спине ни за что ни про что; деревенские
ребята часто устраивали на меня облавы. Я стал издали обходить
деревни, прятаться в оврагах, затаиваться в высоких хлебах. Зимой
было спокойнее, чем летом. Лыжный спорт тогда был совсем не развит,
и, кроме немногих охотников, за городом не было ни души. Тусклые
снежные поля широкими увалами уходили вдаль к редким полоскам
сидевших на холмах деревень, к синеватой гряде знакомого кузнечихинского
леса. Издали поля казались совсем пустыми, пожалуй, даже скучными,
но все же манили нетронутой синевой снега, по которому атласной
лентой ложится желобок свежего лыжного следа. Эта пустынность
полей была обманчива; стоило внимательно приглядеться — и всюду
оказывалась жизнь. То из бурьянов выскочит рыжегрудый русак, поставит
уши торчком и долго катится полем, подымая снежную пыль. Пролетит,
крадучись, ястреб-тетеревятник, стайка белых подорожников рассыплется
по дороге.
Я ходил по следам куропаток, разгадывая, что они делают на озимях,
часами следил за щеглятами, кормившимися на репейнике, знал, где
отыскать чечеток, овсянок, синиц. Как-то посчастливилось увидеть
лисицу и по следам найти то место, где она съела ежа, выкопав
его из-под снега. Я видел, как пролетавший ворон долго играл куском
старой кожаной подметки, бросая и подхватывая ее в воздухе, пока
она не упала в снег. И мало-помалу меня увлекли эти поиски нового
и интересного, погоня за наблюдениями, которые казались тогда
целыми открытиями. Иной раз возвращался домой весь покрытый смерзшимся
мокрым снегом, с горящим от ветра лицом и глазами, слипающимися
от усталости. Восемь-десять часов непрерывного хода на лыжах и
ни одного интересного штриха из жизни обитателей леса! Но неудачи
не обескураживали. Через три-четыре дня снова можно было видеть
парнишку в шапке-ушанке и ватной куртке лазящим по оврагам, что-то
раскапывающим и завертывающим в бумажки. Был у меня небольшой
холщевый мешок через плечо, как сума нищего. Проходя городом,
я прятал его за пазуху, чтобы не подняли на смех. Какой только
дряни не перебывало в этой сумке! Я клал туда дохлых мышей, найденных
в поле, и коралловые ягоды шиповника, пахучие кусочки веток с
почками, заячьи орешки, зеленоватые лишаи и ржавые гвозди сломанных
подков. Ничто не сохранилось из этих сокровищ! Но дневники, в
которые я пристрастился записывать все, что удавалось тогда заметить,
целы до сих пор. Они написаны неуклюжим детским почерком, но даже
теперь я нахожу в них немало верных наблюдений и пользуюсь ими
для научных работ.
Три старых крысиных капкана, случайно найденных при раскопках
в чулане, сделали меня богаче любого из канадских трапперов. В
тот день, когда эти ржавые вещицы грубоватой работы попали в холщевую
сумку, началась моя тревожная эпоха звероловства. Ее сменил период
ружейной охоты, когда я получил собственную шомпольную двухстволку.
Много лет спустя работа натуралиста стала моей профессией. К ружью
и ловушкам присоединились бинокли, шагомеры, термометры, лупы,
коллекции, целая библиотека биологических книг, специальная подготовка,
полученная в университете. Настали времена научных экспедиций
и ученых трактатов, для которых оказался очень полезным весь мой
опыт "бродяжничества по полям", начиная от ребячьих прогулок с
драками у Новой Стройки.
В зимнее утро, когда рябой пытался отнять мои лыжи, я отправлялся
к капканам за шесть километров от города. Капканов осталось только
два — один украли при неудачном начале звероловства, о котором
стоит рассказать.
Я слышал, что близ нашего города водятся хорьки и ласки, но
даже отец, охотник, не мог указать, где искать этих зверьков.
Однажды весной я нашел ссохшийся трупик раздавленной ласки на
дороге у хутора. Ласка была в белом зимнем меху; из набитого землей
рта сверкали острые оскаленные зубки. Рядом с дорогой тянулись
канавы, скрытые бурьяном, дальше стояли скирды и росла капуста,
окруженная проволочной изгородью. Я вспомнил об этом месте, получив
капканы, и решил, что для начала неплохо изловить парочку беленьких
ласок.
Первый снег, выпавший в начале ноября, наполнил сердце зверолова
радужными охотничьими мечтами. Пришлось убежать от латыни; под
вечер я был на канавах. По дну их, через бурьяны, тянулись целые
тропы следов. Следы небольшие, но для ласки пожалуй велики, подумал
я. Ну, если попадет хорек, это тоже будет неплохо. Кое-где на
снегу краснели мелкие пятна. Я догадывался, что это кожица ягод
паслена, погрызенных мышами, но так хотелось верить, что здесь
разбрызгана кровь хорьковой добычи! К спусковым тарелочкам капканов
привязал по кусочку мяса, прикрыл ловушки мелкими листьями. В
тот вечер заснуть было трудно, я долго ворочался в постели. Мечты
невольно уносились к канавам, где шумят при порывах ветра темные,
сырые бурьяны. Мне чудился шелест прыжков по мокрому снегу и мелькание
гибкого тела хорька. Я слышал звонкий лязг капкана, злое ворчанье
пойманного зверька. Ночью снились тревожные сны; в гимназии весь
день сидел как на угольях. Пришлось опять сбежать от урока, чтобы
засветло попасть к хутору.
Снег таял, в канавах появилась вода. Два капкана были затоплены
и, конечно, ничего не поймали. В третьем, упав на спину и оскалив
желтые резцы, лежала огромная мертвая крыса. Самая обыкновенная
и препротивная крыса-пасюк! Она попалась передней лапой, вымокла,
вертясь в снегу, и замерзла. Закусив губу от горькой обиды, хмурый
траппер в гимназической шинели сердито смотрел на красные крысиные
лапки, на длинный посиневший хвост, покрытый боевыми шрамами и
мелкой поперечной насечкой.
"Вот тебе и парочка ласок! Гибкое тело хорька... Чего захотел.
В крысиный капкан крыса тебе и попала. Не стоило далеко ходить
да уроки прогуливать. На дворе, в сарае можно десять крыс поймать.
И покрупнее". Уныло месил я грязь дороги, со злостью швырял камни
в нападавших собак. В сумерки это дело верное; камня не видно,
собака не успевает увернуться. Как кинешь — так и заскулит.
Недели три капканы пролежали дома. Потом выпал глубокий снег,
и каждый день перепадали пороши. Километрах в четырех от города,
в болотистой долине, я нашел следы неизвестного зверька. Он был
небольшой, обе лапки ставил тесно рядом, делал двойные легкие
отпечатки. Крупные прыжки тянулись извилистой линией через всю
долину и молодой, порубленный лес. Тут рыскал проворный хищный
зверек; на этот раз я был уверен, что хорь. Ходить в долину —
далеко, я попадал туда только в свободные дни; целые недели капканы
оставались без присмотра. В одну из оттепелей обтаявший капкан
стал виден с дороги; его утащили. Я перенес оставшуюся пару вниз
по долине, к узкой речке, петлявшей по лугам среди зарослей ивняков
и небольших болотец. Следов здесь было не меньше, чем в долине.
Они тянулись вдоль речки, скрывались под лед, нависший у берегов,
и часто заводили на незамерзавшие кочковатые болотца. Родниковая
вода просачивалась под лыжами, снег налипал и мешал ходить. Я
скоро научился по траве угадывать, какая под снегом почва, узнал,
где много мышиных нор и где зимуют лягушки. Следы зверьков приводили
на эти богатые поживой места.
Капканы стояли в кустах, для приманки над ними были повешены
мыши. За первые три недели ловли попалась одна сорока. Бедная
птица несколько дней пролежала в капкане; к моему приходу от нее
остались только ноги. Радужные перья хвоста тут и там торчали
из-под снега. Хищники съели сороку; следы их замело снегом.
Наступили зимние каникулы, на которые у меня было много надежд.
До речки и обратно — километров двенадцать; я уже сделал по этому
пути добрых полторы сотни, один лыжный ремень перетер, а звероловство
не давалось.
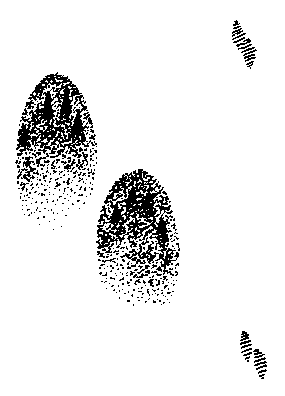
След горностая
Я часто переносил капканы с места на место, стараясь поставить
их там, где больше свежих следов зверька. Но они редко два дня
подряд встречались на одном месте. Зверек то рыскал в бурьянах
и тростниках у речки, то уходил в поля. Через день, смотришь,
наделает тропок, напутает петель по оврагу, оставит много глубоких
ходов под сугробы, накрывшие можжевельник и чахлые осинки. А там
опять появится у речки, и гонкая стежка следа протянется под мостом
и вдоль берегов, над которыми висят мерзлые оранжевые ягоды паслена.
Перенесу капканы в овраг — ночью разыграется ветер и завалит их
снегом на полметра. Поставлю у речки — зверек уйдет в поля. Все
же раз, в ивняке, он подходил к моей приманке. Его когти оставили
след прямо над сторожком капкана. Но снег был плотный, укатанный
ветром и выдержал тяжесть зверька. Сторожок не опустился, зверек
ушел, видимо, не подозревая, как близко была опасность. Приманка
уцелела — об мерзлую мышь, должно быть, не стоило ломать зубы.
Через день я застал тут синицу, которая, держась за веревочку
и раскачиваясь, долбила мышиную спину. Ветер катил по снегу темные
клочки мышиной шерсти. Птичка сердито затрещала: ей жаль было
бросить свою находку.
В конце декабря начались крепкие морозы; бегать через поле при
ветре стало почти невыносимо. Закрыв рукавицей лицо, катишься
бывало под гору, глотаешь колючий воздух, а по багровым щекам
сбегают невольные слезы. Из носу течет, руки немеют; шапка, ресницы
и брови покрываются инеем. А лыжи скрипят, словно жалуясь на стужу,
и повизгивает плотный зернистый снег.
Иногда ветер тянул низом от далекого заиндевелого леса и все
поле курилось поземкой. Она скользила над снежными застругами,
как белые струи и легкие потоки. Струи переливались, катились
через лыжи, одевали снежной пылью валенки. Казалось бежишь, как
во сне, по дну мелкой реки, а она льется по ногам — бесшумная,
прозрачная, почти неосязаемая. Даже голова начинала кружиться
от непрерывного движения этого стелющегося по полю снежного потока
— поземки. В тихую погоду было легче. Иней одевал легким кружевом
все бурьяны и кусты, поле становилось совсем белым, совсем просторным.
Всходило багровое солнце, и гребешки заструг искрились, сверкали
чудесным розовым светом. Синяя тень, размахивая руками, бежала
сбоку на востроносых лыжах; по освещенным склонам оврагов жемчужным
узором загорались следы русаков. Но ни русачьи следы, ни стаи
чечеток, зябко копошившихся на лебеде, не привлекали в эти дни.
Каникулы подходили к концу; скоро опять придется сидеть в гимназии,
надолго распрощаться с беганьем по полям.
Каждое утро я спешил к капканам, издали всматриваясь, нет ли
намека на добычу, снова и снова убеждался в неудаче. Под конец
я привык и уже без волнения подходил к заветным местам, уверенный,
что все усилия пропадут даром. Но какое-то упрямство все еще подталкивало
меня, где-то в глубине души таилась слабая надежда — лента лыжного
следа вновь пересекала поле, добегала до речки и поворачивала
назад.
Под новый год ударил мороз градусов в тридцать, на следующий
день тоже. В поле меня не пустили, лыжи заперли на замок. Я выбрался
только четвертого января. Мороз несколько смяк, но было еще так
холодно, что на бегу спирало дыхание. В поле стояла мертвая тишина;
издали, с казанского тракта, слабо доносились скрипы обозов. Иней
выступил на поверхности наста, она потеряла блеск, стала матовой,
словно осыпанная мелким лебяжьим пухом.
Хлопая рукавицами, хватаясь то за нос, то за щеки, я добежал
до речки. Теперь она тянулась еле заметным желобком, вровень с
берегами засыпанная снегом. Вот мостик, где летом я видел водяную
крысу, а там за поворотом, в кустах поставлен мой первый капкан.
Какая-то ямка видна на снегу под кустом, а приманка исчезла. Мне
сразу становится жарко от одной мысли об удаче. Несусь вперед,
ломаю лыжами хрупкие от мороза верхушки ивняка, а дух захватывает
от волнения. В снежной яме, сидя над капканом, прикорнул и умер
белый большой горностай! Он окаменел на морозе, как выточенный
из мрамора. Капкан обжигает мне руки, ржавые челюсти его с трудом
раскрываются, медленно выпуская добычу. Милый, пушистый, стройненький
зверь! Я готов целовать его бурый мерзлый нос, узкие, покрытые
ледком глазки! Я думаю, ни у кого в руках не было такого сокровища.
В нем все кажется мне замечательным: короткие сильные лапки с
прозрачными острыми коготками, длинный нежно-желтый у корня хвост
с черной как смоль кисточкой на конце, острая мордочка, широкие
ушки, прижатые к голове. А мех такой белый, такой пушистый...
Я дую на него и пар клубится над нами, как дым от выстрела.
Так, значит, это был не хорек, и я всю зиму гонялся за белым
зверьком вместо черного! Бережно, как живого голубя, прячу его
за пазуху; дорога домой кажется мне совсем короткой. "Мы со зверем,
мы со зверем", — поскрипывают лыжи. Широким шагом бежит по снегу
долговязая тень. Она, приплясывая, трясет ушами малахая и размахивает
одной рукой; другая рука прижимает добычу к самому сердцу, полному
торжества и восторга. Первым оттаивает у горностая хвост, потом
лапки; когда я дошел до города, весь зверек стал мягким и гибким.
Свернулся клубочком, словно заснул, пригревшись за пазухой, —
мой первый, самый дорогой горностай.
С неделю зверек провисел в сенях, на удивление школьным товарищам
и знакомым. Потом отец продал его в меховую лавку. "Вот ты и заработал
два с полтиной, — сказал он. передавая мне деньги. — Капканов
что ли себе купишь? Или за порохом опять побежишь?" Деньги были
мне кстати, но было до боли жалко своей первой добычи — милого
пушистого зверька. Где-то теперь его белая шубка, думалось мне.
Кто будет носить ее, холить и гладить?
На плотном снегу у речки не было теперь ни одного следка. Ветер
катил из леса мертвые дубовые листья, сухо шелестела по тростнику
поземка.
На следующую осень я быстро постиг несложное искусство капканной
охоты на хомяков. В тот год их нор было много на яровых полях;
забравшись- на чердак, я часто обдирал рыже-пегие, жирные хомячьи
шкурки. Мне казалось странным, что такую добротную пушнину никто
не покупает и не использует1. Помню, в дождливый день
в старой межевой яме попался один зверек, очень похожий на хомяка,
но бархатно-черной окраски. Только краешки ушей и "перчатки" на
лапках были у него белые.
Крестьянин, возивший снопы с соседней полосы, увидел мою добычу
и назвал зверька "земляной медведкой" (обыкновенного хомяка он
звал "карбышем"). Но через год в губернском музее я увидел чучело
с этикеткой: "Меланист, или черный выродок обыкновенного хомяка
(Cricetus cricetus). Черные выродки (аберрации) среди наших хомяков
нередки". Выродок, аберрация, меланист, земляная медведка — все
это спуталось в моей голове, но ясно было одно: черный зверек
в белых перчатках — настоящий хомяк. Недаром и запах от него при
снимании шкурки был такой же приторный, как от самого захудалого
"карбыша".
В ту же осень случилась одна звероловная история, которая могла
для меня окончиться плохо. В густом орешнике, у старой лисьей
норы я нашел свежие следы, более крупные, чем у горностая. Из
темного лаза норы несло сыростью и острым запахом зверя, на рыхлой
глине лежала обглоданная лапа хомяка и пара разорванных лягушек.
Бережно насторожил я капканы и утром на другой день, в тумане
и моросящем дожде, прибрел через вязкие пашни и жнивы к темному,
облетевшему орешнику. Низкие тучи, цепляясь за гребни холмов,
ползли на северо-восток, откуда, кружась над полями, тянули одинокие
зимняки2. Кусты не спеша роняли крупную прозрачную
капель; поля пахли размокшей полынью, свежей землей и холодком
октября.
Темный, взъерошенный зверь, свернувшись клубочком, спал на капкане
под ободранными и погрызенными кустами. Мелкие дождевые капельки
посеребрили его шерсть, черную, как уголь, — хорек, измученный
долгой борьбой, должно быть лежал неподвижно все утро. Он вскочил
разом, словно развернутая пружина, забрякал железом капкана, застрекотал
пронзительно и звонко, как сорока, рванулся к норе, начал рыть
землю и, упав на спину, в бессильной ярости схватил зубами свою
опухшую, пойманную лапу. Верткий, гибкий, упругий зверюга с бешенством
крутился вокруг колышка. Шерсть его стояла дыбом, хвост был похож
на черную ламповую щетку, маленькие косоватые глазки горели злым
зеленоватым огоньком. Он казался то с кошку ростом, то с крупного
хомяка, так растягивалось, сокращалось, свивалось и развертывалось
это мускулистое, стальное тело. Тяжелый удушливый запах, отдаленно
похожий на светильный газ, знаменитый "аромат" напуганного хорька,
заполнил неподвижный воздух овражка. Я вдыхал его жадно, как полководец
дым сражения, и чувствовал себя настоящим звероловом! Белоснежный,
мерзлый, как ледышка, горностай был трогателен и жалок; этот черный
крутящийся бесенок казался и страшным и милым одновременно. Он
уже не обращал внимания на капкан и рвался ко мне, готовый пустить
в ход белые оскаленные зубы. Нижняя челюсть его дрожала от ярости.
Я прыгал вокруг, не зная, с какой стороны подступиться: везде
встречал меня острый взгляд глубоко запавших глазок и полураскрытая
пасть. Спина и плечи мои были мокры, холодная вода стекала за
воротник, я трясся от сырости и нервной дрожи. Меня то разбирал
смех при виде фокусов, которые выкидывал неукротимый пленник,
то жалость, и я уговаривал его не биться. Я сразу же решил живьем
доставить хорька домой и со многими предосторожностями приступил
к выполнению плана. Зверек шарахался от мешка, он лез мне на ноги
или, опрокинувшись на спину, отбивался когтями. Потом случилось
так, что морда его на одно мгновение мелькнула у моей руки. Из
среднего пальца, разорванного до кости, на глину струйкой потекла
кровь. Настоящий чертенок, на всю жизнь поставил мне метку! К
вечеру палец распух, потом под мышкой появилась опухоль, а на
утро я слег с температурой 40o Дней восемь пролежал
в жару, и темные тучи ползли надо мной, прижимая к подушке тяжелым
хорьковым запахом. Охая, хлопотала мама. Несколько раз приходил
врач. Он говорил: "Похоже на тиф, но как будто что-то другое".
Много лет спустя медики установили, что чумоподобная болезнь -
туляремия, которой часто болеют зайцы, водяные крысы и мыши, легко
передается человеку.3 В 1934 г. советские микробиологи
впервые нашли туляремию у хорька, а за двадцать с лишним лет до
того я получил ее в легкой тифоподобной форме через укус своего
бесноватого пленника.

Степной хорек
С тех пор переловил я немало всяких зверьков. Золотистые колонки
и солонгои попадались мне на Дальнем Востоке, бурые глянцевитые
норки — на Волге, светлые степные хорьки — в Казахстане и Монголии.
Но этих двух первых — белого и черного — я помню особенно хорошо.
1 Только через
15 лет, уже при Советской власти, шкурки хомяков, кротов, сусликов
и других мелких пушных зверьков начали закупать государственные
организации и выделывать из них красивые меховые веши.
2 Зимняк- крупный северный канюк,
хищник, родственный орлам. Гнездится в тундре и северной полосе
лесов, в средней полосе проводит зиму, откуда произошло и его
название.
3 Заболевание туляремией у человека
может быть в разных формах, то более легких, то тяжелых. Иногда
они похожи на ангину, на тиф, на бубонную чуму. Смертные случаи
редки, но часто бывают тяжелые осложнения болезни.
|